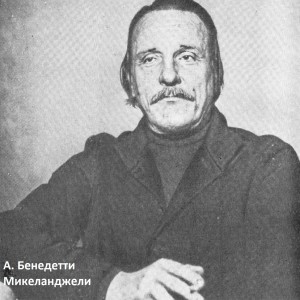Артуро Бенедетти Микеланджели
Артуро Бенедетти Микеланджели
(05. 01. 1920 г. – 12 .06.1995)Величественная и суровая фигура Бенедетти Микеланджели — бесспорно крупнейшего итальянского пианиста середины нашего века — высится как одинокая вершина в горной цепи гигантовмирового пианизма. Весь его облик на эстраде излучает печальную сосредоточенность и отрешенность от мира. Никакой позы, театральности, никакого заискивания перед публикой — и никакой улыбки, благодарности за аплодисменты после концерта. Он словно бы и не замечает оваций: его миссия выполнена. Музыка, только что соединявшая его с людьми, перестала звучать, и контакт прекратился. Порой кажется, что публика даже мешает ему, раздражает.
Никто, пожалуй, не делает так мало, чтобы излить и «преподнести» в исполняемой музыке себя, как Бенедетти Микеланджели. И вместе с тем — парадоксально —мало кто оставляет на каждой исполняемой пьесе, на каждой фразе и в каждом звуке такой неизгладимый отпечаток личности, как он.
Его игра поражает своей безупречностью, прочностью, доскональной продуманностью и отделанностью; ей, казалось бы, начисто чужд элемент импровизационности, неожиданности,— все отработано годами, все логически спаяно, все может быть только так и никак иначе. Но почему же тогда эта игра так захватывает и увлекает слушателя, втягивает его в свое русло, словно перед ним на эстраде произведение рождается заново более того,— впервые?!
Тень трагического, какого-то неизбежного рока витает над гением Микеланджели, осеняя все, к чему прикасаются его пальцы. Стоит сравнить его Шопена с тем же Шопеном в исполнении других, самых крупных пианистов, стоит послушать, какой глубокой драмой предстает у него концерт Грига —тот самый, что у иных его коллег сияет красотой и лирической поэзией, чтобы почувствовать, почти воочию увидеть эту тень, поразительным, неправдоподобным образом преображающую саму музыку. Стоит ли удивляться после этого, что умудренный опытом знаток фортепианного искусства Д. А. Рабинович, слышавший, вероятно, всех пианистов столетия, услышав на эстраде Бенедетти Микеланджели, признавался: «Такого пианиста, именно такого, с таким почерком, такой индивидуальностью — и необычной, и глубокой, и неотразимо влекущей к себе, я еще не встречал ни разу в жизни»…
Перечитывая десятки статей и рецензий об итальянском артисте, написанных в Москве и Париже, Лондоне и Праге, Нью-Йорке и Вене, поразительно часто, прямо-таки непременно наталкиваешься на одно слово, одно магическое слово, как будто призванное определить его место в мире современного искусства интерпретации — совершенство. Действительно, очень точное слово. Микеланджели — подлинный рыцарь совершенства, всю жизнь и каждую минуту за роялем стремящийся к идеалу стройности и красоты, достигающий высот и постоянно неудовлетворенный достигнутым. Совершенство в виртуозности, в ясности замысла, в красоте звука, в гармонии целого.
Сравнивая пианиста с великим художником возрождения Рафаэлем, Д. Рабинович пишет: «Именно рафаэлевское начало разлито в искусстве Микеланджели, определяет важнейшие его особенности. Это игра, характеризуемая прежде всего совершенством — непревзойденным, непостижимым. Оно дает себя знать всюду. Техника Микеланджели принадлежит к самым поразительным среди когда-либо существовавших. Доведенная до пределов возможного, она не призвана «потрясать», «сокрушать». Она прекрасна. Она вызывает восторг, чувство восхищения гармоничной красотой абсолютного пианизма… Ни в технике как таковой, ни в колористической сфере Микеланджели не ведает преград. Ему подвластно все, он может все, чего бы ни пожелал, и этот безграничный аппарат, это совершенство формы полностью подчинено одной лишь задаче — достижению совершенства внутреннего. Последнее, при, казалось бы, классической простоте и экономности экспрессии, безукоризненной логичности интерпретаторской идеи, не является незатруднительно воспринимаемым. Когда я слушал Микеланджели, мне сперва чудилось, что он от раза к разу играет лучше. Потом я понял — от раза к разу он сильнее втягивал меня в орбиту своего огромного, глубокого, сложнейшего творческого мира. Игра Микеланджели требовательна. Она ждет, чтобы в нее вслушивались внимательно, напряженно».
Да, эти слова объясняют многое, но тем более неожиданно звучат и слова самого артиста: «Совершенство — это слово, которое я никогда не понимал. Совершенство означает ограничение, замкнутый круг. Другое дело — эволюция. Но главное — уважение к автору. Это не значит, что нужно копировать ноты и размножать эти копии своим исполнением, но нужно пытаться интерпретировать авторские намерения, а не ставить его языку на службу своим личным целям».
Так в чем же смысл этой эволюции, о которой говорит музыкант? В непрерывном приближении к духу и букве того, что создано композитором? В непрерывном, «пожизненном» процессе преодоления самого себя, мучительность которого так остро ощущается слушателем? Вероятно, и в этом. Но еще — в том неизбежном проецировании своего интеллекта, своего могучего духа на исполняемую музыку, которое подчас способно поднять последнюю на невиданную высоту, придать ей значительность иной раз большую, чем та, что в ней заключена изначально. Так было когда-то у Рахманинова — воинственного пианиста, перед которым преклоняется Микеланджели; так происходит и у него самого — скажем, с Сонатой до-мажор Галуппи или многими сонатами Скарлатти.
Нередко можно услышать мнение, что Микеланджели как бы олицетворяет собой определенный тип пианиста XX века — машинной эры в развитии человечества, пианиста, у которого нет места для вдохновения, для творческого порыва. Такая точка зрения нашла сторонников и у нас. Под впечатлением гастролей артиста Г. М. Коган писал: «Творческий метод Микеланджели— плоть от плоти «века грамзаписи»; игра итальянского пианиста идеально приноровлена к ее требованиям. Отсюда стремление к «стопроцентной» точности, отработанности, абсолютной непогрешимости, характеризующее эту игру,— но отсюда же и решительное изгнание малейших элементов риска, прорывов в «незнаемое», то, что Г. Нейгауз метко назвал «стандартизованностью исполнения». В противоположность пианистам-романтикам, под пальцами которых само произведение кажется тут же творимым, рождающимся заново, Микеланджели на эстраде не творит даже исполнения: все здесь сотворено заранее, измерено и взвешено, отлито раз навсегда в несокрушимо великолепную форму. С этой готовой формы исполнитель в концерте сосредоточенно и бережно, складка за складкой, снимает покрывало, и перед нами предстает в своем мраморном совершенстве изумительная статуя».
Бесспорно, элемент спонтанности, стихийности в игре Микеланджели отсутствует. Но значит ли это, что внутреннее совершенство достигнуто раз и навсегда, дома, в ходе спокойной кабинетной работы, а все, что предлагается публике, — своего рода копии с одной-единственной, неизменной модели? Но разве могут копии, как бы хороши и совершенны они ни были, вновь и вновь зажигать в слушателях внутренний трепет — а это происходит уже много десятков лет?! Разве может художник, год от года копирующий себя, оставаться на вершине?! И наконец, почему же тогда типичный «пианист эпохи грамзаписи» так редко и неохотно, с таким трудом записывается, почему и сегодня его пластинок ничтожно мало по сравнению с пластинками других менее «типичных» пианистов?
Ответить на все эти вопросы, разрешить до конца загадку Микеланджели не просто. В том, что в его лице перед нами крупнейший художник фортепиано, сходятся все. Но столь же ясно и другое: сама сущность его искусства такова, что, не оставляя слушателей безучастными, оно способно делить их на приверженцев и противников, на тех, кому склад души и таланта артиста близок, и тех, кому он чужд. Однако, во всяком случае, это искусство не назовешь элитарным. Рафинированным — да, но элитарным — нет! Артист не ставит своей целью разговаривать только с избранными, он «разговаривает» как бы сам с собой, а слушатель — слушатель волен соглашаться и восхищаться или спорить… но все равно восхищаться им. Не прислушиваться же к голосу Микеланджели невозможно — такова властная, загадочная сила его таланта.
Загадочность, таинственность окутывают не только искусство Микеланджели; множество романтических легенд связано и с его биографией. «Я славянин по происхождению, по крайней мере в моих жилах течет частица славянской крови, а родиной своей я считаю Австрию. Можете называть меня славянином по рождению и австрийцем по культуре», — сказал недавно корреспонденту пианист, которого весь мир знает как крупнейшего итальянского мастера, родившегося в Брешии и проведшего большую часть жизни в Италии.
Его путь не был усыпан лаврами. Начав заниматься музыкой в 4 года, он до 10 лет мечтал стать скрипачом, но после воспаления легких заболел туберкулезом и вынужден был «переквалифицироваться» на фортепиано, так как многие движения, связанные с игрой на скрипке, были ему противопоказаны. Уже в 14 лет юноша окончил Миланскую консерваторию, где занимался у профессора Джованни Анфосси (а попутно долгое время изучал медицину). В 1938 году он получил седьмую премию на международном конкурсе в Брюсселе. Теперь об этом нередко пишут как о «странной неудаче», «роковой ошибке жюри», забывая, что итальянскому пианисту было всего 17 лет, что он впервые пробовал свои силы в таком сложном соревновании, где соперники были исключительно сильны — многие из них тоже стали вскоре звездами первой величины. Зато два года спустя Микеланджели с легкостью стал победителем Женевского конкурса и получил возможность начать блестящую карьеру, если бы не помешала война. Артист не слишком охотно вспоминает эти годы, но известно, что он был активным участником движения Сопротивления, бежал из немецкой тюрьмы, партизанил, освоил профессию военного летчика.
Когда отгремели выстрелы, Микеланджели было 25 лет; пять из них пианист потерял в годы войны, еще три — в санатории, где лечился от туберкулеза. Но теперь перед ним открылись радужные перспективы. Однако Микеланджели был далек от типа современного концертанта: вечно сомневающийся, не уверенный в себе, он с трудом «вписывался» в концертный «конвейер» наших дней. Он тратит годы на разучивание новых произведений, то и дело отменяет Концерты (его недруги утверждают, что он отменил их больше, чем сыграл). Обращая особое внимание на качество звука, артист предпочитает путешествовать со своим роялем и собственными настройщиками, что вызывает раздражение администраторов и иронические реплики в прессе. В результате он портит отношения с антрепренерами, со звукозаписывающими фирмами, с газетчиками. О нем распространяют нелепые слухи, сплетни, за ним закрепляется репутация трудного, эксцентричного и несговорчивого человека.
А между тем этот человек не видит перед собой другой цели, кроме бескорыстного служения искусству. Его путешествия с роялем и настройщиком стоят ему изрядной части гонорара; но немало концертов он дает только для того, чтобы помочь молодым пианистам получить полноценное образование. Он ведет фортепианные классы в консерваториях Болоньи и Венеции, ежегодные семинары в Ареццо, организует в Бергамо и Больцано собственные школы, где не только не получает гонорара за свои занятия, но еще и платит стипендии ученикам; он организует и на протяжении нескольких лет проводит международные фестивали фортепианного искусства, среди участников которых были крупнейшие исполнители разных стран, в том числе советский пианист Яков Флиер.
Микеланджели неохотно, «через силу» записывается, хотя фирмы преследуют его выгоднейшими предложениями. Во второй половине 60-х годов группа дельцов втянула пианиста в организацию собственной фирмы «БДМ-Полифон», которая должна была выпускать его пластинки. Но коммерция — не для Микеланджели, и вскоре фирма разоряется, а вместе с ней и артист. Вот почему последние годы он не играл в Италии, не сумевшей оценить своего «трудного сына». Не играет он и в США, где царит коммерческий дух, глубоко ему чуждый.
В своих «поисках утраченного времени» Микеланджели с годами изменил и взгляды на репертуар. Публика, по его словам, «отняла у него возможность исканий»: если в ранние годы он охотно играл современную музыку, то теперь сосредоточил свои интересы преимущественно на музыке XIX и начала XX века. И все же его репертуар разнообразнее, чем кажется многим: Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуман, Шопен, Рахманинов, Брамс, Лист, Равель, Дебюсси представлены в его программах концертами, сонатами, циклами, миниатюрами.
Все эти обстоятельства, столь болезненно воспринимавшиеся легко ранимой психикой артиста, дают отчасти дополнительный ключ к его нервному и рафинированому искусству, помогают понять, откуда падает та трагическая тень, которую трудно не ощутить в его игре. Но не всегда личность Микеланджели вмещается в те рамки образа «гордого и печального одиночки», который закрепился в сознании окружающих. Нет, он умеет быть простым, жизнерадостным и приветливым, о чем могут рассказать многие его коллеги, он умеет радоваться встрече с публикой и помнить эту радость. Таким светлым воспоминанием осталась для него встреча с советской аудиторией в 1964 году. И недаром он говорил совсем недавно: «Там, на востоке Европы, духовная пища все еще значит больше материальной: играть там невероятно волнующе, слушатели требуют от вас полной отдачи». А это как раз то, что необходимо артисту как воздух.
Лит.: Коган Г. Зарубежные пианисты. Микеланджели. «СМ», 1964, № 8; Рабинович Д. Артуро Бенедетти-Микеланджели. «МЖ», 1964, № 15; Курковский Г. Артуро Бенедетти-Микеланджели, в сб. Мастерство музыканта-исполнителя, вып. I. М, 1972.
Статья взята из книги «Современные пианисты», Составители Л. Григорьев, Я. Платек, М.: Советский композитор, 1977 г.